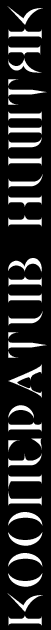

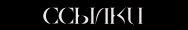
Дорогие читатели!
С глубоким прискорбием имею несчастье известить Вас о кончине Джерри Гнойса, чье гениальное перо в соавторстве с Чарльзом Склепперсоном подарило миру цикл "Поганых повестей", а также монументальные сочинения - "Поганкин в стране Чудес", "13 подвигов Поганкина", "Погамлет" и многие другие бессмертные творения.
Прах Джерри Гнойса, по его завещанию, был развеян над морем в районе Бермудского Треугольника.
Александр Сплюн, редактор "Мерзилки".
Памяти Джерри Гнойса посвящается
Джерри Гнойс, Чарльз Склепперсон
Поганая повесть
Часть 2
- Неужели я все-таки умру?... - думал
Поганкин, с ужасом глядя на своё вздувшееся, посиневшее и покосившееся
тело. Вся его былая веселость и беззаботность самым непостижимым образом
трансформировалась в угрюмость, желчность и брюзгливость, что изливалась
на голову Драздрапермы, ухаживающей за мальчиком.
- Куда запропастилась эта смрадная
уключина? - шипел Колька. Ходить он уже не мог - виной тому корни, которые
он пустил, лежа в избе у старухи.
Сумерки принесли с собой зябкую
сырость - смертельное дыхание Предболотья, унылое бормотание совы-сплюшки
и непреодолимое желание сделать кому-нибудь гадость. Становилось темно.
После страшных приключений с блуждающими огоньками Колька темноты
побаивался.
- Хоть бы кто свечку или печку зажег,
что ли... Эй! Унылое молчание ответствовало гласу Поганкина. Старый ящер
Драздрапермы Панголин уже неделю жил на чердаке. Этот добрый, чудаковатый
представитель рептилий, очень доверчивый и наивный, доведенный придирками
и глумлением Кольки до отчаяния, ушел поближе к небу, на чердак. Теперь
оттуда часто раздавались его тихие вздохи, глуховатое пение и раскатистое
чихание, ибо на чердаке старуха сушила травы, грибы и коренья, о коих
всегда забывала, и те за долгие годы превращались в такие причудливые
смеси, что галлюцинации, навеваемые ими, были поистине феерическими.
Поганкину начало казаться, что тьма,
вползающая в избу, отнюдь не призрачно-эфемерна, напротив - жива и
осязаема. Она то зыбко колыхалась, то свивалась в какие-то
желудочно-кишечные клубки, вселяя в душу Кольки ужас, сравнимый лишь с
ужасом, что испытывает эксгумируемый труп. Уж нам-то с Вами, милейшие
читатели, это доподлинно известно.
Доведенный своим воображением до
пароксизма, Колька, тараща глаза во тьму, с трудом дотянулся до большой
глиняной кружки с настоем червегноя, любовно приготовленным Драздрапермой.
С воплем, от которого сорвалось со стены чучело долгопята, мальчик
остервенело швырнул тяжелую кружку в потолок. Задремавший было старик
Панголин очумело вскочил, варварски стукнувшись головой о стропила.
- Горе мне, проскрежетал он,
опускаясь на колени и проникая головой в полу чердака. До чуткого слуха
старика донеслись всхлипы и стенания ороговевшего Поганкина. Добрый
Панголин не мог спокойно слушать детский плач, ещё в молодости он
говаривал : - Когда плачут дети, я ничего не могу с собой поделать - иду и
успокаиваю их. Большой сучковатой дубиной. Если повезёт, - навсегда. Но
Поганкина очень любила Драздраперма, а её безнадежно, bngb{xemmn и чисто
любил Панголин. Бедняга обожествлял в ней все - вросшие кривые ногти,
щетинистый хобот, взбалмошный нрав, смрадную послеобеденную отрыжку и ее
прочие многочисленные достоинства, делавшие старуху в глазах Панголина
просто богиней. Старый ящер вздохнул и, мягко покачиваясь на перепончатых
лапах, направился к слуховому окну.
Колька терял надежду. Трясясь крупной
дрожью, шевеля ушами и сжав от волнения в кулаки пальцы клешнятых ног,
мальчик чувствовал за стенами дома какое-то странное движение - словно
деревья тихо освобождали из земли свои коренья и, сплетая ветви, обступали
дом. Злорадно захохотала выпь, мрак ночи всколыхнулся пронзительным криком
свинодоя, чья-то тяжелая поступь и хриплое дыхание близилось к двери.
Колька замер. Холодной рукой ночного ветра дверь с грохотом
распахнулась... На пороге, переминаясь с ноги на ногу, стоял смущенный
Панголин.
Колька забился в конвульсивных
рыданиях. Странное чувство расползалось по скользким лабиринтам душной
души старого ящера. Смесь жалости, тоски и болезненного сострадания, как у
палача, взмахнувшего топором над головой жертвы и внезапно вспомнившего о
своей любимой морской свинке, которую он забыл покормить перед уходом на
работу. Так раки очень сочувствуют тухлому куску мяса, раздираемому их
противоречивыми клешнями.
- Сейчас, сейчас, - забормотал
Панголин, бросаясь к разинутой пасти камина. Провозившись со щепками и
кремнем, старик схватил со стола толстую книгу с медными застежками и
позаимствовал из нее пару страниц для растопки. Пламя проворно охватило
таинственные закорючки и причудливые фигурки, начертанные на девственном
пергаменте. Затрещали дрова.
- Прости меня, Паня, - прошептал
Колька, -- я много досаждал тебе последнее время, но верь мне, что не я
тому виною. То досаждал тебе не я - моя болезнь...
Панголин растрогался. Опустившись в
кресло, он заговорил проникновенно и задушено:
- Мальчик мой. Когда я был маленьким,
я, прогуливаясь однажды в лесу, наткнулся на крохотный грибок. Мы
разговорились и вскоре стали большими друзьями. В жару я поливал его три
раза в день, а в дождь и град прикрывал веточками. Он рос и рассказывал
мне удивительные истории - знал он их множество, и мудрости этот гриб был
необычайной. Видишь ли, он повзрослел гораздо быстрее меня, и мне, с
мозгом молодой рептилии было порой не совсем понятно то, что он говорил
мне, но я ужасно любил его и просто слушал его шелестящий шепот... Да... И
вот однажды, когда листья на деревьях принялись спускаться вниз, чтобы
свершив путешествие сквозь землю по корням, стволу обратно к ветвям,
зазеленеть на них весною... сидели мы, глядя на закатное солнце,
истекающее кровью в облака, он заговорил о смерти. Очень грустно и
красиво. Он был настоящий поэт. Гриб. Быть или не быть? И еще что- то...
Ушел я весь в слезах, всю ночь не спал, а утром снова прибежал туда, к
нему.
Прибегаю, а он стоит. Тихий такой.
Странный... Что-то необычное, новое появилось в его облике. Нездешнее что-то. Я упал на колени, обнял его... А он... Знаешь, он как- то расселся,
расползся в моих ладонях, жижа какая-то бурая, слизь, черви ползают... И
все. А его - нет.
Я с тех пор очень много думал обо
всем этом, - продолжал печально Панголин. -- Ведь нас с тобой ожидает в
точности такая же участь. Да, да. А ты вообще, сейчас к ней близок, как
никто другой, - деликатно добавил старик, игриво выплюнув и втянув обратно
свою носоглотку, похожую на кальмара.
Колька молчал. В камине бесновались
огненные карлики, разрывающие друг друга из-за куска тлеющей коряги.
- А потом я стихотворение сочинил, -
неожиданно изрек Панголин, - о сущности тлена и тленности всего сущего.
Вот...
И Ящер, приняв торжественную позу,
принялся декламировать:
Был я травкой шелковистой, был душистым я
цветком,
был я ивою ветвистой, был я с пчелками знаком.
Но потом я
был оторван, был прожеван и проглочен.
Тот, кто съел меня недавно, был
весьма рогат и всклочен.
В алой побыл я пещере, орошен слюною был -
так, как делают все звери, бык меня в миг проглотил.
Покатился по
кишкам я, измененья там терпя.
Повстречался с смрадной желчью, что
клубилась там, сопя.
А когда я в слизь густую превращен желудком
был,
чтобы стать еще прекрасней, по клоаке я поплыл.
Там, киша
сопливой массой, черви скользкие вились,
с отвратительной гримасой
превращая пищу в слизь.
Я заметил за собою: стал я тверже, гуще стал.
Вдруг полночною звездою свет забытый заблистал.
На траву извергнут
был я, наслаждаясь светом дня.
А теперь внемлите мне вы. Да,
послушайте меня.
Коль меня возьмете в руки, жуткий смрад ударит в нос.
Вы узнать хотите, кто я? Что ж, извольте. Я - навоз.
Это все, как ты понимаешь, следует
воспринимать аллергически, мой мальчик, - назидательно пробормотал поэт.
-- Аллегорически, - шепнул Колька и всхлипнул. -- Вот, вот, - обрадовался
Панголин. -- Подожди, - насторожился Поганкин, пристально глядя на окно,
-- Слышишь?
Во тьме, приближаясь к избе,
раздавалось зловещее чавканье трясины, тяжелое урчанье в животе и
магические заклинания, очень похожие на первосортную брань.
- Это же она! - воскликнул Колька. --
Драздраперма вернулась! И мальчик, утомленный этим движением души, тяжело
откинулся на подушку, умильно глядя полными слёз глазами на стоящую на
пороге старуху.
Та сразу принялась хлопотать по дому,
рассказывая при этом о всяких всякостях, что приключилось с ней за время
её отсутствия. Для начала она подбросила дров в огонь, взяла из под
лежанки Колькину утку и выплеснула её содержимое в окно. Утка вырвалась из
рук, забила крыльями и скрылась во мраке.
Ну вот, - проворчал Панголин, --
Опять завтра новую knbhr|, а ведь эта уже привыкла...
- Да ладно тебе, Паня... Так вот. В
Кислодрищенке, стало быть, все мрут чего-то... Ты чего, Колька, вздыхаешь?
Тётку одну встретила брюхатую. В положении, то есть. Пятый раз, говорит,
выметываю по ведру икринок, от силы тройня вылупится, и те какие-то
дохленькие да полоумненькие. Гномы яйцекладущие все повымерли...
- Печально быть яйцекладущим гномом,
- выпалил поэтически настроенный Панголин.
Драздраперма, помешивая кого-то в
ступке, где всё клокотало и сопело, продолжала:
- Слышь, Николушка, забрела я ко
вдове старика Малефициума, про все твои хворобы ей рассказала. Бумажку вот
принесла, ею написанную. На, прочти...
На клочке ослячьей кожи витиеватым
старушечьим почерком было начертано: "Вяло текущая форма маниакально-
некротического психосомаэнцефалопатического синдрома, осложненная
абдоминальным вирусом Асмолотля Гиперпецилотрубатриксного обыкновенного с
отклонениями в область кармических видений."
После длительного молчания
Драздраперма изрекла:
- Все ясно, как пень. Ты на пути к
выздоровлению. - Сказав так, тетка хитро подмигнула Панголину.
Однако, мальчик понял всё. - Дни мои
сочтены, - подумал он, - и все мирские радости покидают меня вместе с
жизнью. Я не могу играть на скрипке, купаться в болоте, собирать
болиголов... Я пустил корни, ороговел и стал очень злоехидным. А ведь я
иной... Горе мне... Единственное, что осталось у меня - мои сны, там я
прежний - веселый и живой...
Драздраперма, севшая на колькино
ложе, прервала его размышления, - На-ко, милай, похлебай перед сном...
Перед носом Кольки замаячила
деревянная миска с душистой похлебкой, первый глоток которой оставил у
мальчика вкус кольчатой червяги, крокодильих полипов и еще чего-то
сладковато-тошнотворного.
- А почему такой странный вкус? -
осведомился Поганкин, усердно щелкая клювом.
Драздраперма загадочно осклабилась. -
Жабьи Наки, дружок, всё странное в мире от них...
Спустя несколько минут все окружающее
закружилось перед колькиными глазами - Панголин, колыхаясь, поплыл к
потолку, и, растаяв там, пролился дождём на Драздраперму. Она ноздревато
растеклась по грязному полу, залила огонь в камине и, мягко покачивая на
волнах, понесла лежанку Кольки в Неведомое. Смертельная тьма завладела
землёй, избушкой и спящим Колькой, коего обступили удивительные видения,
порожденные его воспалённым воображением и похлёбкой Драздрапермы. Колька
чувствовал, как прохладный ночной ветер ласково играет чешуйчатыми
наростами на его голове, как он волшебно поёт в больших крыльях,
сплетённых из свежих, тугих листьев болиголова, прикрепленных к ажурному
каркасу. Далеко внизу, словно ил в горле утопленника, темнела земля, где
остались Панголин со старухой, Предболотье и Кислодрищенка, и все страшные
болезни, терзавшие последнее время Кольку, который, устремив взор на Луну,
скользил среди звёзд, cnpdn расправив крылья...
Вырвавшись из паутины сна, мальчик, с
трудом вытянув из циновки белесоватые побеги молодых кореньев, появившееся
за ночь на его шее, поднял голову. Горло и жабры пересохли от волнения,
дух захватило и не отпускало.
- Наверное, он остался там, в небе, -
подумал Колька про свой дух.
До рассвета мальчик не сомкнул глаз,
и к утру план избавления от недуга созрел в гениальной голове Поганкина.
Не только созрел, но и успел пожелтеть от нетерпения - Драздраперма,
закрывшись от клопоканов в гробу, служившем ей кроватью, спала безмолвно и
глубоко, как навеки потухший вулкан.
Увидев торчащий из окошечка в крышке
морщинистый хобот старухи, Колька хихикнул.
- Сейчас я её разбужу, - прошептал
он. Взгляд его упал, едва не разбившись, на хитрый ушат с прозрачными
слюдяными стенками, за которыми колыхались водоросли и уныло плавали рыбы.
Раньше там жили Аквари - очень умные рыбки, чьи советы всегда помогали
Драздраперме. Но с тех пор, как Панголин неизвестно откуда приволок его
любимых сомиков Кандиру, умные Аквари под покровом темноты покинули
Предболотье. С тех пор Драздраперма называла ушат - аквариум.
Стараясь не шуметь, Колька дотянулся
до дырявого ковшичка с длинной ручкой. Выловив из ушата одного сомика,
мальчик опрокинул содержимое ковша в окошечко на крышке гроба. Через миг
она слетела на пол, придавив спящего Жутконоса. Драздраперма с выпученными
глазами сидела в гробу, запустив щупальца себе в хобот, с трудом удерживая
за острые плавники пробирающегося вглубь радостного сомика Кандиру.
Наконец, измаявшись, вымазавшись кровью, слизью и чешуёй, бедная старушка
извлекла упирающегося кровососа на свет и, злобно плюнув, швырнула в окно.
Когда весёлое гиканье сомика затихло вдали, притворявшийся всё это время
спящим Колька открыл глаза. Недоуменная Драздраперма мрачно смотрела на
аквариум, бормоча:
- Вот оказия... Как же этот охальник
оттуда выбрался?... И в постель ко мне залез, стервенец шельмоватый...
У-у- у...Каналья...
Тяжелая волна ненависти захлестнула,
поглотила добрую старушку - ещё мгновение и она растоптала бы малютку
Жутконоса, скулящего на полу с перебитым хребетиком; вылила бы жителей
аквариума на Панголина и цинично надругалась бы над могилкой своей мамы...
Но...
- Доброе утро, бабушка, - раздался за
спиной тихий, чуть гнусавый голос Коли. Голос, наполнивший душу старушки
раскаяньем, нежностью и любовью. Охваченная этими чувствами, тётка с
распростёртыми культями двинулась к постели мальчика. Его посиневшее,
засунувшееся личико, измождённый глупоглазый взгляд и близящаяся кончина
повергли Драздраперму сначала на колени, а затем в истерику...
- Не умирай, Коленька-а-а-а-а, -
истекая словами, стонала старушка. - Только не умира-а-а-ай...
- А я и не умру, - уверенно выпалил
Колька, и тут же увидел перед собой изумлённо вытаращенные глаза старухи,
в которых стремительно высыхали слёзы.
- Виденье мне было во сне, бабушка, -
продолжал мальчик. - Будто лечу я как птица по небу, а оно всё искорками
усыпано, а одна - огромная, круглая и на лицо похожая. Так чем ближе я к
ней подлетал, тем легче мне становилось... Сперва думал, умираю... Ан
нет... Это способ исцеления, не иначе.
Драздраперма задумчиво морщила хобот,
склонив свою головогрудь.
- Но КАК?! - спросила она
замогильно.
- Я всё придумал, - сиял Колька. -
Зови Панголина...
- Не надо меня звать, - послышалось
на чердаке, - я уже иду.
С потолка посыпалась труха,
свидетельствующая о перемещении ящера.
В избу Панголин ввалился, неся в
одной лапе ворох листьев болиголова, а в другой - изящный лёгкий каркас и
травяные жгутики.
- Знаешь, Коля, - начал старик, -
прелюбопытнейший сон мне сегодня привиделся: стоим мы с тобой на холме.
Ночь. Я помогаю тебе нацепить крылья, и ты уносишься порывом ветра
высоко-высоко в небо. А я остаюсь на холме и плачу... Я-то подумал, что ты
уже умер... А ты вскоре возвращаешься, представь! Живой и, самое главное,
здоровый! Ну я и решил... Чего это вы? - прервался Панголин, глядя на
своих побледневших слушателей.
- Видишь ли, Паня, - голос
Драздрапермы дрожал, - этот же сон, в ещё более пугающих подробностях,
минувшей ночью видел Колька...
В наступившей тишине, подобной тишине
заброшенного склепа, было отчетливо слышно, как падает слюна из разинутой
пасти ящера и листья болиголова из его лап.
Придя в себя, Поганкин произнес
историческую фразу:
- Теперь я окончательно уверен в
победе над недугом! Не будем терять времени. За дело! Нам нужно успеть до
ночи!
Работа закипела. Драздраперма,
напевая что-то из мелодий Кольки, отбирала самые свежие листочки и
хитроумно сплетала их. Панголин, любовно придушив покалеченного жутконоса,
дабы избавить его от мук, укреплял вытянутыми из него жилами каркасы
крыльев. Призрак жутконоса сидел тут же и, тяжело вздыхая, бормотал: - Для
такого дела ничего не жалко...
- Да ладно тебе. Зато ты обрел
бессмертие, - утешил малютку Панголин.
Сомики Кандиру столпились у стенки
своего прозрачного жилища, с удивлением глазея на таинственные
приготовления. А Колька возился и пыхтел в своей постели. Невероятно ловко
манипулируя своей длинной, покрытой кожистыми складками шеей, мальчик,
морщась от боли, мужественно перекусывал тонкие и перегрызал толстые
корни, которые он пустил за время своей болезни. Во всем происходящем была
изрядная доля очумелости, одержимости и отчаяния, балансирующего на грани
безумия и могильной сытости, известной червям и некрофорам - крохотным
жучкам с блестящим панцирем и умильной негой во взоре.
К наступлению темноты все
приготовления были закончены.
Крылья, аки воплощение полёта,
стремления и мечты, стояли возле стены, поблёскивая глянцем листьев,
скрепленных qk~mni Панголина, чьё жадное бульканье доносилось из угла, где
стоял аквариум... Что поделать, расход слюны при изготовлении крыльев,
огромен. Драздраперма пекла праздничный пирог, начинка коего, как всегда,
должна была стать "сурпризом". Поганкин разминал скованные контрактурой
клешнятые ноги, нетерпеливо бродя вдоль крыльев, держась за колченогий
табурет. А жутконос парил над всем этим, постигая все новые прелести
призрачного бытия.
Хочется написать - "Наконец взошла
Луна, и..." Но это было бы неправдой, а в нашей, хоть и сказочной, но
очень правдивой истории сие недопустимо. Ни звёзды, ни Луна в
Кислодрищенке и её окрестностях были не видны с тех пор, как Колька
перестал играть на скрипке. Атмосфера, порождаемая смрадными испареньями
Предболотья и дыханием кислодрищенцев, была подобна густому серому облаку,
висящему над землёй. Любопытствующий взгляд неминуемо тонул в нём, как в
болоте.
Итак... Мрачная, как Стикс, тьма
поманила своей чёрной рукой Поганкина и его друзей к тому самому холму,
где и должно было произойти священнодействие колькиного исцеления.
- Поистине, это чудесный ребёнок, -
думала Драздраперма, глядя на мальчика, сидящего на шее бредущего впереди
Панголина.
- Одна скрипка чего стоит, а теперь
ещё вот это...
Вот и холм. - Вперед, - шепнул
Поганкин, утомлённый длительным переходом, и вереница друзей, сопя и
пузырясь, принялась штурмовать этот земляной фурункул.
Бедный Панголин спотыкался,
проваливаясь в норы червеедов. Драздраперма, скрежеща бивнями, с трудом
выпутывалась из сетей пауков-слоноглотов... Словом, подъём был опасен и
трупен.
Оказавшись на плешивой верхушке
холма, путешественники, отдуваясь, озирали угрюмо затаившиеся окрестности.
Переглянувшись, Панголин со старухой
занялись приготовлением Кольки к полёту. Мальчик стоял растопырив руки,
отрешенно глядя на черную пропасть неба. В полном молчании Драздраперма
дала Поганкину отхлебнуть чего-то из сушеной тыквы, пока Панголин
приматывал крылья к рукам ребёнка. Колька трепетал, как трепетали,
колеблемые ветром, листья смутно виднеющихся внизу деревьев.
Хорошенько прикрепив крылья, Панголин
порывисто обнял Кольку и, всхлипнув, отвернулся. Драздраперма повесила на
шею Поганкина сушеные мылья летучей крыши и ласково подвела его к краю
обрыва. Бездонного и непроглядного, как душа этой таинственной старухи.
Ничто не нарушало первозданной тишины, кругом царило дремотное оцепенение.
Лети, - прошептала старушка, с трудом
подавив рыданье.
И Колька, расправив крылья, окинул друзей прощальным взглядом, полным
тоски, ужаса и надежды. Миг, - и он шагнул в бездну. Подхваченный потоком
ночного ветра, Поганкин воспарил ввысь, и стремительно уменьшаясь, исчез в
облаках.
Усердно работая крыльями, пробиваясь
сквозь плотную завесу облаков, Колька то и дело слизывал с глаз оседавшие
на них клочья промозглого тумана. Утомившись }rhl, Поганкин втянул
покачивающиеся на стебельках глаза, чем значительно облегчил себе полёт,
но сократил обзор; впрочем, когда вокруг клубятся тучи, беснуется ветер и
хихикают ангелы смерти едва ли захочется любоваться вычурными арабесками,
сотканными из туч.
Но вот - ура! - мгла нехотя
рассеялась, словно прах сгинувшего в пустыне путника, и Ночь распростерла
перед Колькой свои прекрасные бархатно-черные объятия, усеянные блестящими
прыщами звёзд. А над всем этим зловеще и притягательно мерцала огромная,
сочащаяся желтым гноем язва Луны.
Колька задохнулся от восторга и,
сбившись с ритма, лихорадочно замахал крыльями. Руки, изрядно утомлённые
непривычными движениями, слезно умоляли о передышке.
Драздраперма говорила что-то о
"восходящих потоках", - подумал Поганкин, чутко ощупывая крыльями тело
ночи, стараясь отыскать артерию, ведущую к Луне. Наконец это ему удалось,
и он, отдавшись пульсирующему току воздуха, поплыл, вырисовываясь
причудливым силуэтом на ярком фоне надменной физиономии ночного светила,
повелевающего отливами и приливами, клизмами и катаклизмами, смертями и
рожденьями - всем, вплоть до роста волос.
Растворившись в созерцаньи и
размышленьи, Колька не заметил, что дышать стало труднее. Воздух стал
холодным, и уже не ласкал, а покусывал острыми ледяными зубками и вскоре
сумел обратить на себя внимание отважного воздухоплавателя.
- Ничего! Она уже близко, - стуча
клыками думал Колька, глядя на растущую Луну. Удивительная лёгкость и
неописуемая эйфория завладели всем существом Поганкина. В душе его вновь
зазвучала музыка, там не осталось места ни боли, ни злобе, ни злорадству.
- Холод - это пустяки, - бормотал
мальчик. - Я выздоравливаю, эге-гей! Ещё чуть-чуть повыше, чтобы
наверняка... Но что это?!... Не-е-е-ет!!!
Крылья, даровавшие ему свободу, жизнь
и счастье, непостижимо и дико разваливались, теряя очертанья. Сочные
листья болиголова, скреплённые слюной Панголина, стали хрупкими, ломкими
от холода и не выдержав напора воздушных струй, с хрустальным звоном
посыпались в бездну. Колька, рыдая, по инерции махал пустым деревянным
каркасом. Но жилы жутконоса, предательски съежившись на морозе, лопнули,
оставив мальчика в равнодушном ночном небе с голыми руками. Набирая
скорость, оставляя за собой сияющий след, Поганкин, подобно болиду,
понёсся к земле.
- Вот ты какая, смертушка моя, -
промелькнуло в голове Кольки, который всё быстрее и неотвратимее мчался
вниз. Достигнув той роковой скорости, за которой всё воспламеняется и
сгорает, Поганкин непостижимым образом был вдруг вынесен из болота
Пространственно-Временных владений Кислодрищенки. Он огненным вихрем,
провожаемый удивлёнными глазами крестьян села Карелинского, рухнул в тайгу
в районе Подкаменной Тунгуски. Это случилось 30 июня 1908 года. Но это
отнюдь не всё!
При сокрушительном ударе о Землю
Колька, вероятно, сдвинул ещё один временной рычажок Вселенной, ибо
старику Дедалу, сидящему на тихом берегу Эгейского моря, глядя на
играющего в оливковой роще сына, внезапно ворвалась в седую голову
великолепная идея.
Шумело море, кричали чайки, но
прислушайтесь... Слышите, ветер доносит голос старого грека, что зовёт
своего наследника:
- Икар, Икар!... Я сделал тебе
крылья...